Предисловие к репринту «Вани Чмотанова»
Он не состоялся к 30-летию повести,
но осталось Предисловие,
имеющее признаки эссе.
но осталось Предисловие,
имеющее признаки эссе.
Заниматься самиздатом в Париже 2001 года спокойнее и удобнее, чем в Москве 1970-х. Но зато и резонанс тогда был другой. Точнее, тогда-то и бывал резонанс, о котором мечтает западный писатель, когда говорит об «удовольствии писать и о счастье быть прочитанным ». Применительно к Самиздату, эту формулу можно дополнить « радостью и риском быть перепечатанным читателями ».
На Западе – как, вероятно, ныне и в России – читают немногочисленные профессионалы и пересказывают остальным (в этом, в сущности, основная роль критики). Так о книге узнает « широкий » читатель. Восприятие читателя-профессионала особенное. Оно бывает насыщенным или притупленным до такой степени, что только нечто острое, жуткое и из ряда вон достигает утомленного интеллекта. О таком и пишется. Так читатель и воспитывается и деформируется. Об этом я не буду теперь говорить подробно.
И само писание в годы Самиздата было другим. «Удовольствие » -- этого мало сказать. Восторг, экстаз, уверенность, что одной книгой можно перевернуть все – и даже советский режим.
Это был еще поиск. Ибо предполагалось – по юношеской интуиции разрушения, – что советский режим имеет свою – неужто ахиллесову? – пяту. Такой современный (местами), такой атомный режим имеет слабое место, восходящее к седой античности Гомера в переводе Гнедича. Родившись, он утвердился насилием и пророс в головы с помощью мифа о сверходаренном мальчике из простой семьи Ульяновых, который после долгих лет учебы и борьбы основал великое государство и покоится ныне в гробнице, позаимствованной у царя Мавзола.
Сохранение остатков основателя, останков, мощей продолжило, несомненно, православный – и вообще христианский – обычай. В двадцатые годы он казался естественным. Коммунисты самоутвердились и в сфере сакрального. Водрузить мощи «своего», похоронить его с таким расчетом, чтобы в могилу могли спускаться люди для почитания, вдохновения и «осознания ». Для наполнения египетской формулы « вечно живой » хотя бы частично реальным содержанием.
Вот где слабое место! Его уже обнаружили и эксплуатировали « политические » анекдоты. Вот где – и не пята, а лоб: Голиафа. Приближалась редкая дата, неповторимая, какую нельзя пропустить : столетие со дня рождения.
Вся подрывная работа заняла три недели. Ныне мне жаль, что мы так спешили: текст грешит конспективностью, слишком большой скоростью письма (и чтения). Но идея сложилась незадолго до юбилея, во время посещения мавзолея со знакомым ребенком, приехавшим из провинции и желавшим непременно увидеть диковинку; то была Наденька, дочка Сони Губайдулиной и Марка Ляндо [умершей скоропостижно в 2004 году в Москве].
Мы торопились с нашим « подарком Самиздата ». Тон задавала сама действительность: продавалась колбаса, дававшая цифру 100 из жира, когда ее резали кружочками, появились сервизы и носки с видами ленинских мест. Официальная пресса осуждала подобное снижение священной темы. А народная душа похохатывала: анекдот оповещал о новой кровати для молодоженов, трехместной : « Ленин всегда с нами ».
Нужно было написать, сделать несколько копий и микрофильмов для запуска в невидимую и не исчисленную сеть подпольного распространения. И это наряду с текущей работой и бедствиями: экзамены в аспирантуру философского факультета, болезнь матери. И еще... и еще... Двойная жизнь, ничего не поделаешь ! (Никто не думал, что это бывает вредно для души; было – забавно.)
Задыхаясь от хохота, мы с Борисом Петровым развивали сюжет устно, а затем торопились записать. Впрочем, Боря вечно опаздывал: в официальной газете он разоблачал неполадки в строительстве, им конца не было, и его все время куда-нибудь посылали. И теперь еще эхо того хохота я слышу (и мне делается немного не по себе: «желтый смех», -- говорят французы), перечитывая книжку: ее на днях прислал Юрий Лехтгольц (Лехт) из Лос-Анджелеса, мой киевский подельник. У него, распространителя журнала « Ковчег » в начале 80-х, сохранилось несколько экземпляров.
На память приходят и другие драгоценные имена тех сказочных лет Самиздата. Вячеслав Великанов, Сергей Генкин, историк Щербаков, Оля Ступакова, Марк Ляндо и София Губайдулина, Шершнев Юрий и Таня, Вика Аксельрод, Поликарпов... не забыть бы кого... Петя Старчик, два Василия Ивановича – Лахов и Баев. Кира Дюльдина. Леонтьевы: Анатолий (в «Гранях» и в альманахе « N » он подписывал стихи: Мерцалов), Оксана и Дима Леонтьев, подпольный писатель. Владимир Галкин, он же Кирилл Сарнов в первом номере «Ковчега». Инженер Никифоров, Будюкин Витя. А веселый Батшев, теоретик СМОГа, и Алейников Володя? Мой собственный сын Максим, перенесший первый обыск в трехмесячном возрасте? Незадолго до эмиграции я встретил людей, которые произвели на меня сильное впечатление: Андрей Твердохлебов, Сергей Ковалев. И особенно Сахаров с его поразительным даром доброты.
Господь меня не обидел: стольких людей послал мне навстречу, которых полюбил.
По-видимому, и сегодня в памфлете кое-что смешно, хотя ничто так не стареет, как юмор и сатира (и это особая совсем неисследованная тема: старение произведения). Мне даже несколько не по себе от тогдашней дерзости, беззаветной, юношеской, еще не укрощенной страшными ударами судьбы и Провидения. Кое-что в тексте сделалось непонятным постсоветскому российскому читателю и тем более заграничному, тем более, когда бледнеют и исчезают штампы коммунистической мифологии.
Конечно, мы понимали, что автора будут искать. Не пустить ли собак по ложному следу? Обязательно, причем забавляясь и тут. Было сочинено Послесловие, в котором автор называл свое имя: Всеволод Кочетов. Тот самый, знаменитый, любимый романист цк кпсс, мишень для пародий и насмешек, актуальный в те годы донельзя. Спустя время до нас дошли слухи, что Кочетова вызывали в... к.г.б. (конечно, не вызывали, а – пригласили). «Мы понимаем, конечно, что это не вы написали, – пересказывала молва полную драматизма встречу (о ней рассказал, как мне рассказали, племянник писателя), – но мы хотели бы знать, кто – по вашему мнению – мог бы иметь мстительные мотивы по отношению к вам. А?» – Встреча произвела сильное впечатление на почти заподозренного партклассика: он лег в больницу с инфарктом. Послесловие оказалось отчасти пророческим.
За границей «Чмотанов» по-русски появился сначала в «Русской Мысли» (Париж) 26 ноября 1970 г. И тогда же вышел отдельной книжкой (она воспроизводится в настоящем репринте). «Флегон-Пресс» (Лондон), имевший сомнительную репутацию («Да я просто коммерсант!» – оправдываясь, говорил его владелец одному эмигранту, тоже коммерсанту), напечатал повесть в том же году, однако без «Послесловия Кочетова». Впрочем, и «Посев» (Франкфурт) в своем микроиздании его опустил.
По-французски повесть впервые вышла маленькой книжечкой два года спустя в приложении к «Кензен литерер». Этот литературный двухнедельник издавал Морис Надо, историк сюрреализма. Осенью 1975 г. он рассказывал мне в Париже, как благополучно вывез микрофильм повести в кармане, получив его от кого-то в Москве в лифте гостиницы. Обстоятельства сложились так, что этот прижимистый деловой человек издал и мою повесть «Никто», когда он руководил серией новинок в «Деноэле». (Она появилась в «Гранях» № 82, 1971, тоже не слишком щедрых в отношении живых эмигрантских авторов. Но это отдельная – и малоизученная тема: как и сколько зарабатывает книжная индустрия на желании писать, печататься и читать).
Впрочем, ни один человек не может собрать всех положительных или отрицательных свойств. Этот открыт новому, но гангстер с авторами, другой ленив, но отзывчив. Третий чувствителен, однако боязлив. (Уж не о себе ли говорю?..) Году в 76-м я попросил одного американского слависта, ехавшего в Москву на стаж, отвезти экземпляр знакомому диссиденту. Американец прочитал, ужаснулся и отказался, сказав общему знакомому: «Просить везти такую книгу в Союз может только сумасшедший или провокатор». Почему такой скудный выбор? Он, правда, не знал, что его просит автор.
Моей писательской дерзости способствовала книжка Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» В 1970 году такой вопрос казался самоубийственно смелым. Дата, как известно, послужила названием роману Орвелла. Мы прочитали его с жадностью (как и Замятина, и Хаксли). Любопытно, что Орвеллом интересовались и аппаратчики. Еще в 60-х в Москве вышла его подробная переводная биография с пометкой «для служебного пользования». Позднее, уже исключенный из университета, я имел удовольствие размножать эту книгу благодаря незабвенному Симону Бернштейну, литератору и диссиденту (и исполнителю эпизодической роли в «Солярисе» Тарковского), исключенному из членов кпсс за членство в Инициативной Группе по защите прав человека.
В эмиграции название книги Амальрика способствовало скорее пессимизму. «Вот и Амальрика не стало, а советская власть все существует», – вымолвил Оскар Рабин. 80-е годы казались остановившимся временем. Но к истине был все-таки ближе погибший оптимист Амальрик, а не мы, еще жившие на свете.
Вероятно, негативность и горечь – национальная черта россиян испокон веку. После 70 лет правления гигантов человеческой низости она только усилилась. В ответ на жизнерадостное название Амальрика я написал «Обзор прессы за 1984 год» совсем в духе Орвелла. Весь мир был представлен охваченным коммунизмом и его новоречью. «Посев» во Франкфурте с удовольствием напечатал памфлет. «Изменив некоторые имена западных деятелей, чтобы не дать повода к обвинению в диффамации», – понизив голос, объяснял мне Лев Рар в 75-м. Крайне правая «Минют» повторила (со своей адаптацией) памфлет по-французски (и сейчас я пишу и думаю, нужно ли об этом говорить, не скомпрометирует ли меня такая публикация при нынешней конъюнктуре политики... трусливость уставшего – иными словами, осторожность – хочет войти и в меня...) Он был подписан, кстати, «Попугаев» (попугай, попу-гать...)
Насмешка над зевсом партмифологии освобождала. Все тот же прием и метод раздвигания границ дозволенного (на пользу или во вред): уж если кто-то отважился на такое, то я-то могу не пойти на субботник! Ну, если все-таки боюсь не пойти, то смело выслушаю политический анекдот.
Интересно было бы узнать, насколько власти приблизились к решению загадки авторства «Чмотанова». Принятый в аспирантуру на кафедру эстетики, – ею заведовал либерал Овсянников, он же и декан факультета, – я был оттуда исключен два года спустя по инициативе либерала Овсянникова, декана и завкафедрой, в связи с письмом из «соответствующих (чему?) органов», как прошептали мне по секрету. Официально я был исключен «за невыполнение учебного плана»: явно и не без цинизма меня провалили на экзамене по специальности, который организовали мне специально... (этот нечаянный повтор – не подсказка ли тени Миши Соковнина... не телепатическая ли телеграмма Севы Некрасова...) единственному из всех аспирантов, на общем собрании кафедры, и он длился два часа! Либералу О. было важно продемонстрировать подчиненным коллегам, что исключается и в самом деле научно не состоятельный кандидат в кандидаты наук.
Сам я думал, что исключен в связи с арестом Михеева: он пытался бежать за границу, воспользовавшись паспортом знакомого швейцарца. Оказалось, что комната Димы в общежитии университета на Ленинских горах (ныне снова Воробьевых; не переименовать ли теперь наконец и Ленина в Воробьева, чтобы покончить со всем этим?), – комната, оказалось, прослушивалась. Экая неприятность! Мне случалась там разговаривать на темы не только запретные, но и острые. Например, может ли послужить делу освобождения новейшая техника, – Дима был физик. Как известно, он получил восемь лет за свою романтическую попытку, отсидел шесть, и я имел удовольствие его встретить в городе Вена в 78-м.
Исключение я перенес болезненно. У меня сохранялся, несмотря на советские ужасы и явно гнилые части института, романтический образ Альмы Матер, сложившийся в отрочестве. Герцен и Огарев, их клятва на Воробьевых (впоследствии Ленинских) горах, Сперанский, Печерин, Грановский... Альма М. предстала лживой и злой. Почти тотчас я уехал на Север, сначала к Игорю Мельнику, художнику и скульптору (и другу красавицы Ольги П.), в Кижи (где тогда же работала искусствовед и реставратор икон Г.Н. Попова), а потом вместе с ним в Кандалакшу, на Белое море, на остров к В.К., работавшему там инспектором рыбнадзора: он любил рискованные положения à la Достоевский.
И в Кандалакше произошла странная история: милиция задержала меня и обвинила в том, что я «мочился на памятник Ленину». Я и не знал, что там памятник! Ночь была февральская, безлунная, почти полярная, освещения никакого. Кто мог знать, что там памятник? Мы и не думали о нем, выйдя из единственного в городе «кафе», где приятно провели время в разговорах на вечные темы и за бутылкой не сказать «вина», но, несомненно, алкоголя. Если память мне не изменяет, этот крепкий напиток назывался «портвейн».В милиции мне пообещали два года «за злостное хулиганство». Поначалу я бодрился и насмехался, – мол, спешите найти мочу, скоро весна («Весь снег сниму с площади, а найду!» – яростно кричал страж порядка), но в камере ночью опечалился и стал думать, что меня «зацепили». Для начала дадут два года, в лагере продлят еще на три, и так далее, – техника дела дел была уже известна. Пропал! Однако наутро пришел В.К. и долго разговаривал с начальником. И меня выпустили. Разумеется, оштрафовав. Спасительную сумму прислала из Москвы С.Г. О, это сладкое чувство свободы, ни с чем не сравнимое, пьянящее, райское!
Нет ли связи между сатирой и столь символическим обвинением, беспокоился я. Однако позднее во время допросов речь о «Чмотанове» не заходила.
За границей Амальрик рассказал мне о загадочном эпизоде. При его аресте было захвачено много самиздата, в том числе и микрофильм с «Чмотановым», который Амальрик не успел прочитать. Он сказал об этом следователю, и тот, проконсультировавшись с кем-то, предложил: «Тогда, если вы не против, мы уничтожим эту единицу изъятия» (!). И в деле она не фигурировала.
Секрет «Смуты новейшего времени» я открыл в первом номере «Ковчега», вышедшем осенью 1978 г., разумеется, без упоминания имени Бориса Петрова, жившего в Москве. А в 1982-м она вышла в большом издательстве «Робер Лафон», полиграфически несколько раздутая, с предисловием Александра Зиновьева, преподавание которого на философском совпадало по времени с моим первым увлечением – математической логикой. Он же советовал мне превратить маленький памфлет в толстую книгу, что, несомненно, увеличило бы ее коммерческий вес. Но это уже казалось невозможным и ненужным: семь лет, прожитых за границей, дали массу нового материала, советская власть подернулась дымкой дальности. Мои литературные интересы были в общем-то далеки от скучноватой обнаженности и сиюминутности политики; я выпустил книгу «Бестселлер» (по-обериутовски ироническое название) с подзаголовком «проза» (желая аннулировать жанровость, которая казалась мне паразитом в искусстве слова), где центральным номером были «Страды Омозолелова» (в них я видел начало «экспрессивного сюрреализма», адекватного выражения русского коммунизма в литературе, – коммунизма как мистического проявления русского гения). «Чмотанов» был от «прозы» далек, хотя некоторые элементы его стиля – например, игра и даже жонглирование штампами, стертостями языка – мне интересны еще и ныне.
В те годы насмешка над коммунистическим мифом была смелостью и во Франции. Никто не хотел «осложнений» с термоядерным колоссом, как и в менее масштабные времена Мюнхена, ни с его людьми в западных странах (кпф и прочая). В те годы «Правда» печатала к 7 ноября поздравление даже американского президента «в связи с национальным праздником». Никто не знал, когда все это кончится, и даже думали, что не слишком скоро. Чекисты чувствовали себя за границей вольготно. Но либералы могли поддерживать диссидентов, бывших советских граждан, делая из них орудие в своей политике: дескать, это говорят они сами. «Голова Ленина», как стала называться книга по-французски (на мой взгляд, удачно, несмотря на ворчанье Петрова десять лет спустя), получив множество откликов в прессе, попала на телевидение в знаменитую тогда передачу Бернара Пиво «Апостроф». Название выпуска было несколько отнекивающимся: «Итак, вы ничего не уважаете?» («вы», приглашенные авторы; ну, а «мы», владельцы телевидения и получатели доходов, уважаем всех, особенно коллег, мы умеем себя вести). Правда, мне было интересно превратить передачу в «перформанс» (манипуляции со шляпой, приветствие знакомых с экрана), но я чувствовал, что и мной манипулируют (Пиво вынудил меня на комплименты в адрес Ролана Топора, другого участника передачи и соседа на сцене). Впрочем, в тот год моя жизнь была крайне нагружена событиями, описанными в «Обращении»; мои чувства и мысли были в Германии и Швейцарии, где романтический издатель Даниэль Кель («Диогенес» в Цюрихе) читал рукопись моего нового – вероятно, романа – «Чужеземец». Его выход (по-немецки, 1983) должен был сопровождаться поездкой по Германии, чтениями и публичным сожжением русского оригинала: прощай, прошлое.
Спустя тридцать лет после написания книжки, после всех событий, опять изменивших лицо планеты непредвиденно и радикально, – на них, раскрыв рты, смотрели маститые социологи и политологи, подобно менее заметным гражданам, совсем не «экспертам», – мне захотелось осуществить самиздатский парижский репринт. Все-таки в «Смуте» есть еще нечто свежее, стремительное, актуальное. Она еще и некоторый реликт. Кроме того, мое материальное положение ныне – совестно признаться – весьма сложное, нестабильное. Не найдутся ли любители, которые захотят приобрести эту книжку – так сказать, лебединую песнь самиздатчика – за скромную цену и тем самым помочь стареющему писателю? Даже и от близких людей доносилось: «четверть века прожил за границей, и ничего не имеет!» Вы думаете, легко слышать такое? В сравнении с иными, купившими жилплощадь в разных мировых столицах? А мои потребности в тысячи – если не миллионы – раз скромнее: ну, покушать там два раза в день и крышу иметь над головой, особенно зимою. Эх, и на море бы съездить...
Хочу сказать напоследок о мавзолее и об остатках такого рода. Мне кажется, нужно создать музей тоталитарного прошлого. Однажды я эту мысль развивал («Смех после полуночи» Василия, «Грани» № 85, 1972), но тогда реализация казалось несбыточной. Теперь дело иное, но вот беда: статуи горе-вождей исчезают, накопленная за 70 лет эмблематика распыляется.
А между тем есть за полярным кругом Северная Земля. Тут буквально написано все советское прошлое: во-первых, это архипелаг, и состоит он из островов Октябрьской революции, Пионера, Комсомольца, Большевика. Не переместить ли туда мавзолей? По возможности, и другие постройки-символы коммунизма?
Место имеет все шансы стать жемчужиной международного туризма (разумеется, большого, авторитетного): экзотика географии и климата, труднодоступность (что ценится все больше), полярные ночи и дни, медведи, песцы и олени! А сравнительная близость якутских алмазов и шаманов? Самовары самого высокого качества придется заказать в Германии. Не только Сорос, но и Березовский, Ельцин, даже сам Путин могли бы внести на это предприятие пару-другую народных миллиардов долларов или швейцарских франков, или, на худой конец, немецких евро. Музей-заповедник будет издавать свой научно-исследовательский вестник, лучшие произведения соцреализма всех стран мира, возродит институт Сталинской, Ленинской и других премий. Работы непочатый край.
Потребность в репринте «Смуты новейшего времени» назрела. В библиотеке парижского Центра Помпиду находился один русский экземпляр, а потом его не стало. Увы, по-видимому, украден, несмотря на систему электронного мечения книг. Для автора это немного лестно, но каково читателю, не имеющему доступа в университетские библиотеки? В конце концов, зачем рисковать своим добрым именем и похищать книгу, если ее можно недорого купить? В добрый час!
Николай Боков
Париж
IV-VI 2001
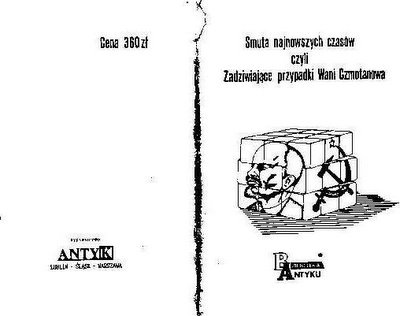
Обложка подпольного польского издания


<< Home